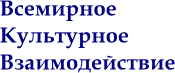Вечность наказывает бренностью, но сама вечность есть континуум — причем, принципиально неинтегрируемый — парадоксальный континуум мгновений различного временного масштаба и субъектной идентичности.
Метка: мгновения
Встречно-бесконечные вопросы
Если мир идеален — уже и совершенно, — зачем в нем я?
Если мир далек от совершенства, к чему и для чего в нем я — ветхий умом и телом, ограниченный в постигаемых смыслах, отстраненных от конкретного, но непременно голографически-вселенского грядущего идеала?
Что именно надлежит эмпирическому богозависимому существу исполнить своей жизнью; в чем его всеедино-универсальное предназначение? Вопрос безмерно строжеет в случае, если это ангельски-детское начало нового — невинного — мира, необъяснимо-трагически прерванного на стадии его чудесно-уникального становления?
Может ли преисполненная благости ткань вселенской онтологии быть соткана из ворсинок напряженно-экзистенциальных ощущений, а вечность — сочленена из бесконечного множества мгновений букашечных переживаний?..
Бесконечно малая [ир]рациональная величина
Мы непрерывно наследуем крохотные мгновения вечности, невольно участвуя в творчестве континуальности ее временного выражения; «большое бытие» определяется и безнадежно замусоривается случайными проявлениями текущей экзистенции, бессильной вместить — охватить и отразить — временной ряд вселенских процессов и явлений… Небо замутняется пылью земного.
Но вечность развивается и длит бытие не только «вперед», в будущее. Она слагается и распространяется и «назад», в прошлое.
В моей бесконечной памяти навсегда прописаны крохи бытия… Моя нервная ткань актуально пульсирует ощущением запредельного времени — на горизонте Вечного…
Из континуума невозможно выбросить даже самой ничтожной иррациональной точки…
Мировая эмпатия
…Сочувствую дождю, скорбящему в опозоренных зимой голых ветвях покинутых деревьев; распознаю тревогу и грусть неприкаянного ветра, мятежно-беспокойного, заблудившегося в прямоугольных карманах урбанистического пространства беспамятного мегаполиса; соучаствую букашке, уверенно несущей бремя своего призрачного бытия; сопереживаю природе, тоскующей в неосознаваемой вечности и ликующей в ее осколочных мгновениях неугасимой жизнью…
Эти впечатления коррелируют (увы, с отрицательным знаком) с благостным ощущением всеединства, которым пропитаны строки Баратынского:
С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.