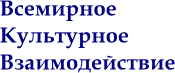Силы небесные — светоносные воинства рая, с Востока, и орды подземные — преисподние власти тьмы, — с Запада.
И битва меж них — не оружием мира сего: мечами, пушками и самолётами, силой и немощью, верованиями и знаниями, — а воюют добродетелями и грехами, праведностью и порочностью, любовью и ненавистью. И победы их — души, купленные за цену их истинной сущности.
И когда чертоги ада опустеют — ибо все будут искуплены, и когда войско преисподней обезлюдит — ибо в вечном мраке и изнывном холоде не останется ни одного нераскаявшегося грешника, — тогда и тьма ада рассеется в нестерпимом свете вселенской благодати, и власть дьявола истает в сердечном тепле безупречной любви всеединства...
Метка: холод
Отчуждающее все-одинство
Иногда его сознание оказывалось во власти пронизывающего ощущения — почти осязаемо-явного видения, — что он словно оказывался на какой-то другой, очень недружелюбной планете — Марсе или Юпитере, или, скорее, даже на вовсе безвестной, страшно далекой и безнадежно затерянной в ледяной бездне чужой планете: безжизненной, абсолютно холодной и пустынной, очень-очень маленькой, как какой-то бесцельно и вольно странствующий в непознаваемых глубинах космоса бесформенный сгусток вселенской материи, или может, просто метеорит. А может именно он и был этой «самопланетой» — осколком социально-психологического универсума…
И вот, он старательно вжимается в этот блуждающий астрономический мегалит, заброшенный в пугающую бесконечность, тщетно озирается в непроглядном мраке, в адском холоде и беззвучной пустоте, в неприкрытой совершенной нагости его сущности, обнаженный всей его судьбой, съежившись испуганной душой и слабым телом — от ужаса и от того, что его вынужденная космическая обитель слишком мала, чтобы можно было на ней хотя бы распрямиться. Его сковывает мертвящий озноб — стынь космического пространства и хладнодушие безмолвного одиночества; он цепенеет от беспомощности и незащищенности… И ему по-детски страшно!..
Но еще больший ужас вызывает чувство полнейшей оторванности и растерянности: почему так получилось, что он очутился на затерянной, непоправимо одинокой планете, словно вырванной из космического всеединства; как он обнаружился на отщепившемся от нормальной социальной материи огрызке вселенского целого и можно ли как-то реинтегрироваться в субстанцию единой онтологии? Он запутан и потерян во времени, заблудился-расслоился в периодах жизни и зрелости своей личности, он растерялся-раздробился в разных своих возрастах и мерах развитости собственной психики, одновременно пытающихся — на своих психологических языках — подсказать ему хоть какое-то решение. Но он не знает и не умеет, как ему поступить, он больше не знает никакой правды, ему неведомо и недоступно никакое вообще, и тем более — единственно нужное, действие. Его парализует волевое бессилие. Он полностью психологически сбит и дезориентирован, а его ментальность утратила твердые очертания; его здравая чувственность скована, а рациональная основа безнадежно источена и размыта эмоциональными волнами в космическую пыль… Возможна ли хоть какая-то реакция его рассредоточенной на множестве времен личности? Если он примет какое-то решение, будет ли оно правильным или неправильным? Будет ли его поступок добрым или злым? Что такое вообще теперь добро и зло? Его действие будет спасительно хорошим или же, напротив, губительно плохим??? У него вообще больше нет никакого знания о плохом и хорошем… Его сознание лишено всех ориентиров, оно смысло-ценностно внекоординатно и беспомощно. Его представления — за горизонтом осознавания жестоко предъявленной чувственной действительности. Опыт его жизни улетучивается во всепоглощающем вакууме и обесценивается до отрицательных величин.
С обреченной орбиты своей никчемно-крохотной планеты он с грустью смотрит на далекую респектабельную Землю, от которой трагически удаляется с предательской, невозвратно-бешенной скоростью, и понимает, что с каждым оборотом на кругах ее небесного пути становится все более чужим тому миру, в котором номинально «прописан», и в котором ему надлежало бы быть своевременной личностью, адекватным гражданином своего времени… Ставший чуждым не потому, что оказался в уединении на далекой и ничтожной планете с ее аномальной психофизической атмосферой и бегущей по непредсказуемой экзистенциальной орбите, а напротив, потому именно и очутившийся на ней, что уже когда-то и в силу каких-то изначальных обстоятельств был собственной природой отчужден задолго до этого. Иначе и не объявился бы он на этой «своей» планете — «планете себя», обреченной на оторванность и бесплодность…
…Экзистенциальный ветер его же собственного сознания все дальше сносит его от обжитых онтологических трасс, ему все сложнее представить, что можно вновь причалить к берегу привычного бытия и войти в социальный «оборот» своей личности в узаконенном порядке общей жизни. Ему ни за что не приземлиться, только жестко пасть и вдребезги разбиться в неизвестности об твердь безучастной чуждости… Он догадывается, что однажды уже ни за что не сможет вернуться в привычный мир, на земной — зеленый и теплый — берег родной планеты, в тепло солнечного света, в комфортное социальное лоно, в уютный круг дружеского общения; он никогда не увидит счастливых улыбок и не услышит радостного смеха ближних… И никогда уже не обретется в социальном миропорядке, в зрелой личностной идентичности, на твердых и правильных основаниях своего цельного, психологически неделимого Эго. Он предчувствует, что ему суждено однажды навсегда стать суверенным пленником льдяного космического тела — обрывка темной психической материи социальной вселенной. Он панически срывается в бездну страха — того, какой только испытывает потерявшийся ребенок!..
…Ментальное пространство-время неумолимо уплотняется, тяжелеет и мрачнеет неосознаваемым; циклы психических переживаний безнадежно сжимаются, коллапсируя в нуль-точку, лишенную собственного смысла и личностного выражения…
То в жар, то в холод
Прежде чем сгинуть в холоде небытия, сопреть и сгнить в плесенных объятиях «матери — сырой земли», живому надлежит как следует прожариться в пекле реального бытия, прогреться под солнцем — астрономическим и метафизическим.