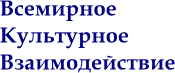Один из летних дней далёкого детства, без даты и времени, без хронологии и твёрдых воспоминаний, не документированный ни в каких летописях и дневниках, не осмысленный и не высказанный ни в каких формах. Он — только впечатление, цельное и бескомпромиссное, как древний валун на длинной пыльной дороге. Он — чистое ощущение, ничего не ведающее о рациональности, иссушающей и гасящей непосредственную вибрацию неискушённой души…
День невечерний, и даже не день, а самое его безгрешно-чистое начало — утро не полуденное, когда краски обещанного дня уже проявились вполне, но не выцвели, не выкипели, не поблекли и не утомили, а только ещё в потенциальном раскрытии, в обещании благодатного расцвета. И до знойного, всезнающе-опытного, умудрённо-утомлённого полудня, зенита переживаний ещё необозримо далеко — почти весь день, почти вся жизнь… И потому, — первородная свежесть во всём; и бодрящая, ещё незапечатлённая новизна ещё одного сюжета, приготовленного на этот день; и ненасыщенная, неутолённая ещё жадность и острота восприятия и удивительность предстоящих впечатлений… И всё многоцветье объективного окружающего мира, и всё преднетерпение-готовность субъективного Я-восприятия этого мира — все эти рвущиеся наружу энергии распахнутого для удивления бытия, как будто, стремятся слиться во взаимном раскрытии-ощущении-постижении…
Утро неполуденное… Ещё только самое утро. Свежо, но не холодно, тепло но не удушливо жарко. Тёплая прохлада. И потому сон сладок и почти непреодолим. Но повседневность всё энергичнее хлопочет в своём привычно озабоченном ритме и проявлениях. Но не тревожит тех, кто ею сам мало озабочен… Детский сон — это особая стихия, это становление Космоса — во всём непостижимом многообразии его спиральных галактик, светил «от сотворения мира», россыпи звезд и планет — в отдельно взятой душе.
Но всё же, сон понемногу истончается, исподволь к нему примешиваются нарастающие звуки и запахи расцветающего дня. И как-то постепенно, незаметно, не вдруг, не катастрофически-резко… просыпаешься, точнее, — проявляешься в событийной ткани начатого дня. «Прорезываешься» в реальности не от проникающего в мозг истеричного звука будильника, срывающего организм в ужас и стресс; не от приснившегося кошмара «на злобу дня»; не от мысли, что вот уже, наверное, придется опоздать; не от пронзительного воспоминания, что сегодня обязательно нужно сделать гиперважное и мегаответственное дело, куда-то дойти, кому-то непременно дозвониться… Просыпаешься не по необходимости, не принудительно, не аварийно-невольно…
А проступаешь в яви постепе-е-е-енно эго-пятном на извечно пёстром холсте этого мира от полноты и избытка сил, восстановленных сном, и уже требующих излиться делом. Плавно материализуешься сознанием, входя в ритм с той глубокой и чистой «музыкой сфер», какой с определенного дня весной начинает звенеть высокое небо; от нарастающей тональности эгоистически громких птичьих пересудов под раскрытым окном; от ласково-теплого, но яркого и настойчивого солнечного луча, гуляющего по затворенным векам; от домовито жужжащих по своим витальным делам мух, уже принявшихся за свою вечную работу; от зуда проснувшегося города; от запаха свежести всеобъятного мира и… блинов, уже ждущих тебя где-то в глубинах домашнего чертога…
И вся это рождающаяся симфония повседневности входит в сознание-ощущения — «чувство-знание» — как удивительное начало ещё одной вереницы событий, наполненных безотчётным восторгом, бескорыстной радостью бытия, еще только открытого для исполнения…
И беспричинная, непроизвольная улыбка озаряет лик, высвечивая на нём волшебную картину неподконтрольного никакой мировой стихии, вне каких-либо причинно-следственных закономерностей, самодостаточного счастья. И сладкая истома охватывает тело, и неизъяснимый восторг разгоняет душу до метафизических высот ощущения от предназначенной будущности. И два чувства сопернически овладевают: так приятно, так сладко ещё немного остаться во власти неспешного сна, ибо понятие спешки заперто на задворках сознания, и, одновременно, — желание сорваться в вихрь предстоящего дела — жизни, поскорее отпить из приготовленной на сей день «чаши бытия», побежать навстречу тому откровению мира, которое, безусловно, уже вот-вот ожидает тебя, погрузиться в приятное и ещё непресыщенное восприятие всех удивительностей, всех неожиданностей, всех радостных, и просто счастливых впечатлений и переживаний.
Всё молодо, всё свежо, всё бодро и заряжено уже поджидающей радостью, актуальным восторгом, самыми неожиданными впечатлениями и неведомыми ощущениями. Столько всего нового, интересного, неиспробованного, загадочного вокруг. И от всего этого волна непосредственного удивления, непорочного блаженства, безгрешной радости открывающегося в душе бытия переполняет и рвётся наружу. Это чистая радость как энергия жизни, как неопровержимое предчувствие вселенскости, это само беспримесное, самородное счастье — непосредственное и естественное как возможность дышать и воспринимать. Как вечная Истина…