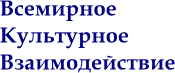Серый день на излете осени…
Ненастный, бессолнечный, обреченно тоскливый, лишенный какого-либо ожидания чего-то целомудренно светлого, почти чудесного.
Но малыши не ведают, что сегодня тоскливый день, что он исполнен неотвратимостью предстоящей холодной зимы и предчувствием долгих невзрачных вечеров. Они неизменно бодры, неугомонны, любознательны...
И вдруг совершенно непостижимым образом этот серый день преобразился, он наполнился каким-то теплым ощущением гармонии и покоя...
Как-то исподволь исполнился...
...И в такие минуты счастливо не хочется уходить. В Никуда...
Это конечно не «Алилуйя радования», но точно умиротворение великого обетования, которым насквозь благодатно пронизано-пропитано все сущее...
Томление духа и ожидание небесного знамения Небес...
Тихие сумерки так и ненасытившегося солнечным сиянием, неначавшегося светлым дня...
Сопричастился тихой радостью полубомжеватых дворников, тайно пьющих водку между метлой и окриком строгой командирши. Вся сладость — в житейском таинстве посреди обыденности. Мир вращается, а они... водку пьют! Это дерзкий вызов, но и профанация своей разумной сущности! Это реальная эмпирическая радость, а не призрачная теоретическая морковка потребления...
Раздел: СоВрание сочинений
Отчуждающее все-одинство
Иногда его сознание оказывалось во власти пронизывающего ощущения — почти осязаемо-явного видения, — что он словно оказывался на какой-то другой, очень недружелюбной планете — Марсе или Юпитере, или, скорее, даже на вовсе безвестной, страшно далекой и безнадежно затерянной в ледяной бездне чужой планете: безжизненной, абсолютно холодной и пустынной, очень-очень маленькой, как какой-то бесцельно и вольно странствующий в непознаваемых глубинах космоса бесформенный сгусток вселенской материи, или может, просто метеорит. А может именно он и был этой «самопланетой» — осколком социально-психологического универсума…
И вот, он старательно вжимается в этот блуждающий астрономический мегалит, заброшенный в пугающую бесконечность, тщетно озирается в непроглядном мраке, в адском холоде и беззвучной пустоте, в неприкрытой совершенной нагости его сущности, обнаженный всей его судьбой, съежившись испуганной душой и слабым телом — от ужаса и от того, что его вынужденная космическая обитель слишком мала, чтобы можно было на ней хотя бы распрямиться. Его сковывает мертвящий озноб — стынь космического пространства и хладнодушие безмолвного одиночества; он цепенеет от беспомощности и незащищенности… И ему по-детски страшно!..
Но еще больший ужас вызывает чувство полнейшей оторванности и растерянности: почему так получилось, что он очутился на затерянной, непоправимо одинокой планете, словно вырванной из космического всеединства; как он обнаружился на отщепившемся от нормальной социальной материи огрызке вселенского целого и можно ли как-то реинтегрироваться в субстанцию единой онтологии? Он запутан и потерян во времени, заблудился-расслоился в периодах жизни и зрелости своей личности, он растерялся-раздробился в разных своих возрастах и мерах развитости собственной психики, одновременно пытающихся — на своих психологических языках — подсказать ему хоть какое-то решение. Но он не знает и не умеет, как ему поступить, он больше не знает никакой правды, ему неведомо и недоступно никакое вообще, и тем более — единственно нужное, действие. Его парализует волевое бессилие. Он полностью психологически сбит и дезориентирован, а его ментальность утратила твердые очертания; его здравая чувственность скована, а рациональная основа безнадежно источена и размыта эмоциональными волнами в космическую пыль… Возможна ли хоть какая-то реакция его рассредоточенной на множестве времен личности? Если он примет какое-то решение, будет ли оно правильным или неправильным? Будет ли его поступок добрым или злым? Что такое вообще теперь добро и зло? Его действие будет спасительно хорошим или же, напротив, губительно плохим??? У него вообще больше нет никакого знания о плохом и хорошем… Его сознание лишено всех ориентиров, оно смысло-ценностно внекоординатно и беспомощно. Его представления — за горизонтом осознавания жестоко предъявленной чувственной действительности. Опыт его жизни улетучивается во всепоглощающем вакууме и обесценивается до отрицательных величин.
С обреченной орбиты своей никчемно-крохотной планеты он с грустью смотрит на далекую респектабельную Землю, от которой трагически удаляется с предательской, невозвратно-бешенной скоростью, и понимает, что с каждым оборотом на кругах ее небесного пути становится все более чужим тому миру, в котором номинально «прописан», и в котором ему надлежало бы быть своевременной личностью, адекватным гражданином своего времени… Ставший чуждым не потому, что оказался в уединении на далекой и ничтожной планете с ее аномальной психофизической атмосферой и бегущей по непредсказуемой экзистенциальной орбите, а напротив, потому именно и очутившийся на ней, что уже когда-то и в силу каких-то изначальных обстоятельств был собственной природой отчужден задолго до этого. Иначе и не объявился бы он на этой «своей» планете — «планете себя», обреченной на оторванность и бесплодность…
…Экзистенциальный ветер его же собственного сознания все дальше сносит его от обжитых онтологических трасс, ему все сложнее представить, что можно вновь причалить к берегу привычного бытия и войти в социальный «оборот» своей личности в узаконенном порядке общей жизни. Ему ни за что не приземлиться, только жестко пасть и вдребезги разбиться в неизвестности об твердь безучастной чуждости… Он догадывается, что однажды уже ни за что не сможет вернуться в привычный мир, на земной — зеленый и теплый — берег родной планеты, в тепло солнечного света, в комфортное социальное лоно, в уютный круг дружеского общения; он никогда не увидит счастливых улыбок и не услышит радостного смеха ближних… И никогда уже не обретется в социальном миропорядке, в зрелой личностной идентичности, на твердых и правильных основаниях своего цельного, психологически неделимого Эго. Он предчувствует, что ему суждено однажды навсегда стать суверенным пленником льдяного космического тела — обрывка темной психической материи социальной вселенной. Он панически срывается в бездну страха — того, какой только испытывает потерявшийся ребенок!..
…Ментальное пространство-время неумолимо уплотняется, тяжелеет и мрачнеет неосознаваемым; циклы психических переживаний безнадежно сжимаются, коллапсируя в нуль-точку, лишенную собственного смысла и личностного выражения…
Синтезированная гиперреальность
Η φιλία είναι μια ενιαία ψυχή σε δύο οργανισμούς
Amīcus est anĭmus unus in duōbus corporĭbus
Друг — это одна душа в двух телах
Аристотель
Он сидел на полу, поджав и обхватив руками колени, устало прислонившись спиной к пыльной стене полупустой комнаты. Его взгляд был сосредоточен, но спокоен, тусклый отсвет его глаз смешивался с полутьмой помещения, а сам он был едва различим в недрах затененной комнаты, отчасти заставленной остатками какой-то старой ломаной мебели. И потому вошедший в комнату не сразу обнаружил его, отрешенно сидящего в глубине кабинета, почти в самом углу. Однако, заметив, тот от неожиданности вздрогнул и с раздражением требовательно спросил:
— Ты еще! Что ты тут делаешь?
— Я жду тебя, — кротко и по существу ответил он и поправился: — ждал.
— Чего? — недружелюбно протянул тот, застигнутый врасплох спокойным тоном ответа. — Ждал, здесь? Меня? — особо возвысив голос на последнем слове в глубоком удивлении подозрительно переспросил тот, ибо хорошо знал, что все отношения между ними уже давно были взорваны и предусмотрительно еще раз тщательно заминированы на дальнюю-далекую перспективу. Настолько надежно, что общение даже в примитивной форме, даже в столь невероятных обстоятельствах представлялось совершенно невозможным. Всего минуту назад.
— Чего нужно, зачем? И вообще… — сурово призвал его к ответу тот.
— Чтобы быть вместе, — опять неестественно спокойно и уверенно, вполголоса ответил он.
— Быть вместе??? — опешил тот от потрясающей наивности ответа, граничащей с вызовом. — Ага… Особенно в этом месте. Странное место и странно, что я здесь оказался.
— Потому и здесь.
— Да ладно, все это совершенно случайно.
— Как знать...
— С чего ты вообще решил, что я зайду сюда? Как ты мог знать, что я окажусь здесь?
— Я и не знал. Но ведь ты же пришел!
— Это случайно, говорю же тебе! Я тут совершенно случайно! Сам не знаю, как… Я мог и не зайти в этот хлам… Стой, — прервал он сам себя, и с привычной для него неизменно жесткой насмешкой уличил — а как же ты мог ждать, если не знал, что я приду? А?..
— Я просто ждал — не по часам и без гарантий.
— Но ты же мог ни за что не дождаться меня, и мне бы тогда не пришлось во все это…
— Да, именно так это и было всегда… Прежде, до сих пор. Но сегодня это случилось. Я дождался.
— Что значит «всегда»? Что ты имеешь в виду? Когда это ты ждал меня? Где и когда? Давно ты вообще здесь? — тот входил в штопор сильнейшего раздражения.
— Тебя. Всегда. Но в другое время и в разных местах, — почти беззвучно, как призрак ответил он, стараясь своим голосом не злить собеседника.
— Ну-у-у… — тот недоверчиво всмотрелся в полупризрачный силуэт на полу, но от абсурдности услышанного не нашелся, что возразить. Насмешливая ироничная улыбка, всегда блуждавшая на его лице, приобрела монументальную застылость.
— Ты и раньше ждал меня? — после паузы, вновь оживляясь, все же переспросил тот. Его недоверие, дойдя, казалось бы, уже до высшего предела, все еще продолжало стремительно нарастать. — Вот так вот, как сейчас? Как это может быть… Ерунда полная… И вообще, не очень-то и хочется ввязываться в какие-то объяснения с тобой.
Опять установилась оглушительная пауза. Очевидно, решался вопрос: уйти восвояси без лишней риторики, или все же попытаться прояснить обстоятельства странной и совершенно ненужной встречи. Любопытство и несуразность всей ситуации все же пересилили, и тот снова вернулся к выяснению важных для него обстоятельств.
— Хм-м. А зачем? Для чего ты ждал-то меня… А, да, чтобы…
— Именно, — договорил он за него тихим, почти переходящим в шепот, но твердым голосом. — Чтобы быть вместе. Вечно!
— Что за… Не понимаю… И что, все-таки, значит — быть вместе, и притом вечно? — вдруг спасительно сформулировался вполне логичный в такой путанице вопрос.
Он немного помедлил и твердо огласил формулу «решения».
— Я буду тобой. — И, видя полнейшее недоумение на лице своего «дознавателя», пояснил, надеясь «расшифровать» свою мысль: — Я хочу быть тобой до самого последнего атома тебя. Я отрекаюсь в себе и обретаюсь в тебе.
— Как?! — тот словно захлебнулся эмоциями и на время лишился дара речи.
— Я хочу быть тобой, пожалуйста, позволь мне это! — как-то испуганно-судорожно заторопился он, стараясь «подкрепить» свои слова. — Я уже…
— Хватит уже! — грубо прервал его тот. — Ты меня дуришь? Чего тебе нужно от меня?
— Я хочу проникнуть тебя — насквозь и без малейшего остатка — и овладеть тобой. И тогда… твоя власть надо мною будет абсолютной… Я стану твоим восторгом, радостью, избытком чувств, полновластным торжеством каждого мгновения жизни… Это акт полного и безвозвратного доверия. Это самообретение в пепле жертвенности.
— Всего-то!? — сарказм был единственно доступной в его состоянии полнейшего изумления реакцией на услышанное.
Какое-то время тот перемалывал «проект», явно пытаясь связать «концы с концами».
— А что будет со мной, и зачем это все мне, да и тебе? Но… я о другом: почему, собственно, я? — наконец прозвучала серия новых вопросов. — И почему в злополучной связке именно с тобой? И уж точно было бы лучше, если бы я наткнулся тут на кого-то другого, но никак не на тебя, ты же и сам это знаешь. Никаких перспектив...
— Я не могу всего объяснить. Но все что я знаю, точнее, достоверно чувствую — это то, что я именно должен, по отношению к тебе, в том числе. Во всяком случае, как я это понимаю, и ты не можешь с этим спорить.
Они молчали — каждый о своем.
— Разве ты не сожалеешь, что все пошло по-аварийному? — вновь обратился он к тому. — Так много было обещано и так мало оказалось исполнено!
— Ну и пусть! — агрессивно-упрямо отрезал тот, но поколебавшись, почему-то решился на большее, с застарелой досадой добавив: — ты ведь так нужен был мне…
Он согласно кивнул — И ты мне. И сейчас. Тоже.
— Кто-то должен, наконец, простить нас за это, — спустя минуту, размышляя вслух, проговорил он. — Я давно раскаялся, и не вижу для себя в этом унижения, но для тебя такая мысль почему-то представляется невозможной. Прошу, поверь — мне и в меня, и оставь прошлое в прошлом, как однажды пригвоздил себя в нем и я. Если смог я, то тем более это удастся тебе, — на его напряженном лице отразилось страдание и, одновременно, бессилие, ибо таким невероятным случаем добытая как редкий шанс реальность момента… снова предательски ускользала из под его воли.
Тот терпеливо молчал, добросовестно вслушиваясь в слова и действительно пытаясь вычленить смысл, очертания которого пока не укладывались ни в одну логическую схему.
— Может стоит попробовать, — он умоляюще заглянул ему в глаза, — посмотреть на это поверх нагромождения ошибок и эгоизма?
— Не очень-то и надо, — презрительно хмыкнув, отреагировал тот, переминаясь с ноги на ногу. — Мне не нужны новые прищепки для психики. Никакой цены это уже не имеет. Все уже.
— Не все, — возразил он. — Я не могу позволить тебе исчезнуть бесследно из моего мира, угаси́ть в нем звезду, обещанную путеводной, — начал он новую попытку убедить не понятно в чем своего угрюмого собеседника.
— Так, уже и звезды тут… — попытался ввернуть скептическое замечание тот, но он оставил реплику без ответа и продолжал.
— И не могу позволить себе пожертвовать вечностью, по неосторожности, по глупости незрелого существа обратив ее в один ошибочный миг, в мгновенную точку безнадежного прокола под названием «вот и все»… Я бессилен выразить свое соучастие в тебе, но я уже и есть твое предчувствие и твое стерегущее сожаление о прошлом, и сейчас говорю уже голосом твоей интуиции! Пожалуйста, доверься хоть ей! — на эмоциональном вираже в последней надежде обратился он. — Какие еще доказательства ты можешь от меня требовать, какого еще саморазоблачения ты можешь ждать?
Вновь воцарилась тишина, в которой почти слышимо в неподвижном воздухе и остановившемся времени обыденно вилась потревоженная пыль.
…Что-то неуловимо, кардинально и вмиг изменилось. Реальность незримо облеклась непостижимой, но воспринимаемой метафизикой, и вместе с тем абсурдность ситуации развеялась, словно досадный и нарочный дым. Достигнув какого-то пика, все как будто просело, обмякло, соразмерилось... Поляризация и накал эмоций, напряжение психики, диссимметричность стихийно петляющего диалога — все как-то вдруг спало, поблекло, утихомирилось. И даже воздух стал не таким: его почти реально ощущаемая нервозность исчезла.
Тот вдруг словно отпустил себя, эмоционально обмяк, его нервное напряжение ушло и он неожиданно даже, наверное, для самого себя доверчиво опустился на пол, на колени прямо напротив него, лицом к лицу, почти вплотную, словно пытаясь в полусумраке разглядеть-разгадать неожиданно возникшую загадку. И их прозрачные взгляды надолго встретились, безнадежно сплелись, словно запутавшись друг в друге, будучи не в силах и не в воле распутаться в полном безмолвии пропыленных сумерек помещения.
— Не знаю, что происходит, но оно происходит… Я совсем не понимаю, что есть, но понимаю, что что-то все-таки есть… Но это же… — неуверенно и удивляясь своим словам проговорил тот, и накрыл своей ладонью его руку, обнявшую колено.
— Нет, это другое, — уверенно пресек его мысль он, и осторожно-несмело прижался щекой к тыльной стороне его ладони, по-кошачьи инстинктивно и доверчиво потерся об нее и затем взял его руку в свою.
Они беспомощно, целую вечность барахтались в бездне взглядов друг друга, строго и бескомпромиссно пытаясь удостовериться в настоящести этого невероятного момента и прожигая психические кротовины в своих издерганных сходственных душах. И мир, казалось, наконец, обрел долгожданный смысл, покой и столь запоздалую и оттого необходимую в их положении ясность отношений.
— Как это возможно? — тихо, словно сам себя, спросил тот, не вынимая своей руки из его прохладной ладони.
— Я стану витальным током твоего тела, напряжением твой жизни. Ты будешь чувствовать мною: каждое твое ощущение станет выражением моей самоотдачи тебе, я буду нервом и субстратом твоей личности. Я стану атомами и проводниками твой воли и верной службой твоих чувств. — Словно в подтверждение этих слов он, все погружая свой взгляд в его взгляд, медленно и задумчиво провел его ладонью по своему подбородку и губам, а кончиками своих пальцев едва ощутимо коснулся его лица. И тот добросовестно пытался уловить какие-то новые гармоники своего ощущения. — Мы будем одна сущность, единая жизнь, наши чувства обнимутся, наши души необратимо и навек взаимопроникнутся и наши психики обретутся в невыразимом единстве. Нам предназначена новая жизнь.
— А после? — в каком-то изнеможении отчаяния задал тот свой провокационно-запредельный вопрос.
— А после мне не нужно будет ждать тебя в отчаянной надежде на ничтожный случай в пыльной кладовке! — так же с вызовом, явно приободрившись, ответил он. — Я уже — уже сейчас и в этом вот предстоящем виде — невольная часть тебя, даже если ты об этом не подозреваешь и к этому не стремишься, и, может даже, отвергаешь. Теперь я хочу того же и даже больше, можно сказать, в абсолютном виде, но собственной волей — твоей и моей. Мы уже одна, однажды взорвавшаяся и непостижимо расширяющаяся, вселенная, и она не моя, она наша. Так все свершилось и никто нам не объяснит, по каким законам.
— Похоже, это какая-то новая форма мистики… В которую… да, мне почему-то хочется верить! — без привычного саркастического форсажа открылся тот. — Ты знаешь, я… не против… быть вместе, — наконец, не без усилия над собой признал тот, медленно, словно на ощупь, и тихим голосом выражая свое недвусмысленное отношение ко всему, что произошло с ним и с ними в последние полчаса. — И даже, пожалуй, соглашусь на вечность, если такое действительно было бы возможно. В конце концов, мы все равно всегда ввинчены в какую-то бо́льшую реальность…
— Это снова твоя ирония? Или… — подозрительно спросил он, пытаясь разгадать смысловой маневр своего визави.
Тот мотнул головой и повторил за ним: — Или, — и тут же почувствовал как его рука была стиснута сильнейшим пожатием.
Они молча смотрели друг в друга, словно давая в завладевшей миром тишине немного остыть своим чувствам после выжигающего психологического спурта и остерегаясь нарушить незримый прилив новых ощущений.
— Хм… Ладно, я все же теперь пойду, — нерешительно, даже нехотя высвобождая свою руку из его ладони, произнес тот задумчиво, словно убеждая себя в чем-то. — А как же ты, что с тобой?! — спохватившись, неожиданно для обоих воскликнул тот. И это спонтанное эмоциональное извержение, выдавшее неподдельность интереса, достоверно засвидетельствовало: мир перевернулся — он тихо и неузнаваемо преобразился.
— Я буду ждать тебя,— едва слышным звуком, но уверенно выдохнул он ответ.
— Опять? Где и когда? — воскликнул тот, то ли с отчаянием, то ли с какой-то ему самому непонятной надеждой.
— Везде и всегда, непрерывно. У меня нет точных координат во времени и пространстве, в нем не обозначены перекрестки — наша вселенная надпространственна и вневременна, в ней наши взаимные слова и мысли, небесные протоколы наших отношений сверхисторичны и не знают прошлого. Но пусть это тебя не тревожит. Я все равно уже — уже в этот самый миг! — ликующая часть тебя, я уже — уже сейчас! — счастливый момент твоего психического тонуса, даже если ты сам это пока не воспринимаешь. Ни от тебя, ни от меня это уже не зависит, и наверное, никогда не зависело, и потому мне было суждено дождаться тебя. Просто позволь мне быть тобой и я исполню нашу сущность бесконечной радостью иного чувствования, иной взаимности… Все, что тебе нужно сейчас — довериться мне: как себе, и тогда я стану тобой. И мы станем едины: будем вместе и навеки… Вот что все это значит! Это же так понятно и так просто!
Тот задумчиво кивнул и с непонятным облегчением произнес: — До встречи… — но запнулся на слове и… выскочил из метафизического угара кабинета, который не был обозначен ни на одном плане бумажного здания. В их вселенной…
Вододейные блюстители жизни
Каждая, даже самая малая, капля дождя — как солдат неисчислимой и непобедимой небесной армии: неприметно, но стойко несет свою службу, упруго и влажно исполняя свой маленький, но великий долг, — во имя жизни.
С небесных хлябей на черствую землю сошедшие ангелы химического синтеза…
Онтологическая колесница
 …И было Время. И был день в часы его.
…И было Время. И был день в часы его.
И были Небеса в день сей. И были обетования их…
И был Смысл. И творила воля Его.
И потому была Жизнь, и стал Мир!
«Как Вверху, так и внизу» — терпеливо учил Триждывеличайший.
Благослови, Господи всея!..